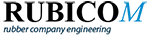Через 200 лет французская Академия наук снарядила в Южную Америку экспедицию для измерения дуги меридиана. Один из ее участников, Шарль Кондамин, решил изучить жизнь и быт индейцев Перу. Долгие путешествия привели его к конечному пункту экспедиции – городу Квито. Особенно членов экспедиции поразили гевеи – гигантские деревья, достигающие высотой до 40 метров и нескольких метров в обхвате. Некоторые растения имели на коре надрезы, из которых струился густой и белый сок каа-о-чу, как называли его местные жители, что означало «слезы» дерева. В густеющий на воздухе сок начинал густеть, перуанцы погружали в него несколько раз форму, сделанную из глины, которая покрывалась пленкой.
Однако французские ученые равнодушно встретили сообщение Кондамина. В то время каучук был не нужен. На него все еще смотрели как на заморскую диковинку, считали шуткой природы. Известен такой факт. Король Португалии, прослышал, будто бы у бразильских индейцев есть древесный сок делающий обувь непромокаемой. Долго не раздумывая, он послал в Бразилию свои туфли с приказом смочить их этим соком. Туфли вернулись из-за океана в Лиссабон. Кроме того, властями Бразилии была прислана одежда, покрытая слоем этого сока — сока гевеи. Она была грубой, липла и в то же время нисколько не промокала. Летописец свидетельствует, о том, что короля в этой одежде два часа обливали водой, но она не промокла.
Об этом заговорила вся Европа. Каучук начали скупать. Предприниматели привезли в Англию от индейцев Бразилии несколько тонн сока гевеи. А когда вскрыли сосуды, то в них оказался твердый каучук. Соприкасаясь с воздухом, латекс быстро густеет и свертывается, как прокисшее молоко. На помощь пришли химики. Они нашли жидкости, способные растворять каучук. Это позволило в короткий срок наладить производство трубок и резинок для карандашей.
В начале прошлого века английский инженер Чарлз Макинтош выпустил партию дождевиков. Они быстро завоевали популярность. Пока шли дожди, и стояла прохладная погода, изделия из каучука служили прекрасно. Но едва пригрело солнце, обладатели непромокаемых пальто всполошились. Теплый каучук становился мягким, распространяя неприятный запах. В тесном дилижансе пассажиры прилипали друг к другу, и к сиденьям. Их плащи делали платье непригодным к дальнейшей носке. В морозную погоду с макинтошами тоже творились чудеса: они становились жесткими и ломались в месте сгибов. Обладатели дождевиков требовали вернуть деньги. Производители разорялись. Предлагались большие премии тому, кто излечит новый материал от пороков. Однако все попытки сделать каучук невосприимчивым к колебаниям температуры, кончались неудачей.
Но поиски не прекращались. Соблазн разбогатеть побудил заняться решением труднейшей проблемы американца Чарлза Гудьира — владельца скобяной лавки. Дни шли за днями, а удача все не приходила. Он отчаялся: денег - нет, и осталась последняя пластинка каучука для экспериментов. Гудьир отрезал от нее крохотный кусочек для следующего опыта, а кинул не на стол, а по ошибке на горячий обогреватель. Поняв, что ошибся, изобретатель хотел схватить ценный материал: он знал, что каучук сейчас расплавится, как воск. Но что такое? Вместо липкого и клейкого куска каучука, он схватил необычайно упругий и эластичный каучук. Почему же он не расплавился?
Вспомнив, что, перед тем как начать опыт, он обвалял пластинку, в сере, Гудьир повторил эксперимент. То же самое. Изобретатель проделал ряд новых опытов, окончательно убедивших его, что им найден надежный способ превращения каучука в эластичную резину.
Это открытие устранило препятствия, стоявшие на пути развития резиновой промышленности. Каучук, подвергшийся вулканизации — нагреванию в присутствии серы, — перестал бояться тепла и холода, сделался упругим, эластичным. Спрос на него сразу возрос. Вскоре в капиталистическом мире началась истерика. Оказывается, потребности капиталистов в
каучуке не могли быть обеспечены природными каучуконосами. Девственных лесов Бразилии не хватало, чтобы полностью снабдить промышленность соком гевеи, только 160 граммов «выплакивает» одно дерево в день. А надо десятки тысяч тонн. Что делать?
Держатели акций усилили эксплуатацию туземного населения. «Каучуковая каторга» стала уносить все больше жизней. Вымирали целые племена, задавленные рабским трудом. И все же сока гевеи нужно было больше. Он неудержимо дорожал. В этот период возникла мысль создать плантации каучука на других континентах. Однако бразильское руководство, сохраняя монополию, отказалось продать англичанам семена гевеи. Тогда империалисты прибегли к своему любимому методу — украсть. Англичанин Генри Викгэм под видом ботаника, под предлогом научной экспедиции в бассейне реки Амазонка тайно привез в Англию 70 тысяч семян каучуконосных деревьев. В ответ на официальный протест бразильских властей, обвинивших Викгэма в воровстве, он от английского правительства получил орден и почетный титул. Несмотря на заботливый уход, взошли лишь около 3 тысяч семян. Полученный посадочный материал высадили в Цейлоне. В 1900 году там был получен первый плантационный натуральный каучук. Сейчас удельный вес млечного сока дикой гевеи в мировой добыче, достигающей почти 2 миллионов тонн, равен 2 процентам.
В капиталистическом мире установилось «каучуковое равновесие». Что касается Советского Союза, народы которого, окруженные враждебным кольцом строили новое общество, то для него заграничная зависимость в отношении такого важнейшего стратегического материала, как каучук, являлась весьма опасной. И русские ученые сказали: — Каучук будет!
Поиск разделили на два направления. На изучение других растений, выделяющих каучукоподобный сок и на разработку способов получения его искусственным путем. Наступление велось с громадной целеустремленностью и размахом.
Блестящую победу одержали химики. Познав тайны строения молекул каучука, они научились создавать их искусственным путем из доступного сырья. Надо сказать, что получить искусственно каучук пытались долгие годы и зарубежные ученые. Первую тропинку проложил известный английский физик Михаил Фарадей, установивший, что сок гевеи — углеводороды, и определил даже его состав. Важные открытия сделал Вильямс, получивший изопрен — вонючую жидкость – основную часть сока гевеи. Французский химик Густав Бушард сделал новый шаг. Смешав изопрен с соляной кислотой, получил мелкие кусочки неизвестного каучукоподобного вещества.

Открытие Бушарда существенно продвинуло науку вперед. Вскоре Тильден получил синтетический каучук из скипидара. Но практического значения в его находке не было. Скипидар — слишком дорог. Кусочек каучука, полученный из него, стоит почти как небольшой бриллиант.
В конце XIX века в гонку за каучук вступили русские химики. Исключительно большое значение имело открытие академика И. Л. Кондакова. В 1888 году он, обработав триметилэтилен хлором и щелочью со спиртом, получил изопрен. Но это еще не все. Надо было заставить полученное вещество полимеризоваться (образовывать стойкие молекулы). Кондаков призвал на помощь солнечный свет. Опыт удался. Через несколько месяцев жидкость затвердела и стала похожа своим свойствам на каучук. Но от такого способа пришлось отказаться: слишком сложен был этот метод и слишком длителен.
В 1901 году Кондаков получил каучук уплотнением молекул диметилбутадиена — родственника изопрена. При хранении, а еще, скорее, при нагревании он образует вещество, которое имело главное свойство каучука — упругость.
Когда грянула первая мировая война, Германия, задыхавшаяся в блокаде, воспользовалась открытием Кондакова. В Ливеркузене был спешно сооружен завод для получения каучука из диметилбутадиена. Но вырабатываемый здесь материал не имел достойного качества и был слишком дорог. Завод после войны закрылся.
Создавая искусственные материалы, химики пользовались тогда лишь веществами, построенными из небольших молекул. Труды замечательных русских ученых Александра Михайловича Бутлерова и Дмитрия Ивановича Менделеева помогли им обрести почти безграничную власть над веществом. Человек научился многое брать от природы, не ожидая ее милостей. Ученые начали синтезировать небольшие молекулы из отдельных атомов. Углерод, водород и кислород в больших количествах использовались на заводах для получения газов ацетилена, метана и многих других веществ.
«А нельзя ли «соединять» маленькие молекулы, создавая большие?» Ученые все чаще и чаще задумывались над этой проблемой. Сначала робко, потом все смелее овладевали они этим искусством. А чем соединять, где взять «нитки»? И как сшить эти микроскопические тела?
Чтобы молекулы-мономеры связать в одну большую цепь, нужны две операции: расковать звенья — не прочно связанные атомы — и соединить между собой маленькие молекулы-мономеры. Сковывают цепочки с помощью высокой температуры и давления. Жар ускоряет движение частиц, а давление сближает их.
Реакция, начинающаяся под действием высокой температуры, распространяется по всему объему вещества. Но на каком-то этапе полимеризация прекращается. Ученые заволновались: почему рвется? Наконец все объяснилось. В веществе образуются миллиарды цепочек. Рост их идет одновременно и когда наконец, все маленькие молекулы поделены, «строительных материалов» больше нет, реакция затухает.
Температура при этом должна быть оптимальной, при высокой образованные цепочки опять рвутся и опять образовываются молекулы - «недомерки». Следовательно, высокая температура не всегда помогает химику. А если вести процесс при низкой температуре? Тогда молекулы будут двигаться крайне медленно, и полимеризация займет много времени.
Ученые вышли из затруднительного положения, воспользовавшись «химическими иголками» — так назвали они катализаторы — вещества, которые содействуют реакции, но сами в нее не вступают, оставаясь неизменными. Науке известно сейчас немало таких веществ, помогающих расщеплять или соединять молекулы мономера при низкой температуре и создавать цепочки разной длины.
Искусство химика-органика - нащупать слабые места в ненасыщенной молекуле, разорвать ее в этом месте и затем по-другому соединить обломки, сделать длиннее или соединить кольцом. При этом надо образовать гигантские молекулы, из миллионов атомов. В молекуле каучука, например, насчитывается до 26 тысяч атомов. В сравнении с нею молекула уксусной кислоты, состоящая из восьми атомов, похожа на крохотную утлую лодчонку рядом с океанским пароходом.
В двадцатых годах в связи с бурным ростом промышленности Советского государства проблема создания своего искусственного каучука стала особенно острой. Отечественная наука отметилась тогда многими блестящими открытиями и изобретениями. Труднейшую техническую проблему решил выдающийся ученый С. В. Лебедев. Глядя на его лицо, невольно вспоминаешь поздние портреты Чехова. Аккуратно подстриженная бородка. Та же серьезность во взгляде, особая грациозность и изящество в повороте головы, отсутствие какой бы то ни было позы.
Вся жизнь Лебедева — подвиг. Куда бы ни бросала его судьба, всюду он трудился самозабвенно, целиком отдавая себя делу. За участие в студенческих волнениях он был арестован и выслан, но воля его не была сломлена. Несмотря на блестящую защиту свой дипломной работы, выполненной под руководством знаменитого химика-органика А. Е. Фаворского, в университете его не оставили. Пришлось начинать с лаборатории мыловаренного завода. Вскоре он становится членом комиссии по исследованию стали для изготовления рельс. И хотя новое дело далеко отстояло от непредельных соединений углеводородов, интересовавших Лебедева, он и на этом поприще добился успеха. Жюри Международной выставки присудило ему золотую медаль за проведенные им исследования.
Лишь после службы в армии, Лебедев смог заняться интересовавшей его проблемой. Удлиняя молекулы дивинила — нестойкого газа, ближайшего родственника изопрена, он получил каучукоподобное вещество. О своем открытии он доложил в декабре 1909 года на заседании Русского химического общества. Но никто не обратил тогда серьезного внимания на сообщение молодого ученого. В протоколе упомянуто его имя, и только. С прозорливостью, присущей великим людям, Лебедев раньше других увидел в непокорном, труднодоступном газе дивиниле самое подходящее сырье для синтеза каучука.
Потребовалось, однако, много лет упорного труда, прежде чем проблема была окончательно решена. Продолжающиеся исследования, Лебедева и его помощников привели к открытию способа, каким можно было получать дивинил из спирта. Он был и не самый дешевый, и не самый удобный. Но его было много.
А жизнь торопила: без каучука не могла развиваться промышленность молодой Советской республики.
В 1926 году в газетах появилось сообщение, взбудоражившее ученый мир. «Высший Совет Народного Хозяйства объявляет мировой конкурс на промышленный способ получения искусственного каучука», — печатали газеты на самых видных местах.
Лебедев понял, что его час наступил тогда, когда был объявлен мировой конкурс на
разработку промышленного способа получения синтетического каучука. Вместе с группой своих учеников он с утроенной энергией принялся за работу. Прежде всего, надо было найти катализатор, который бы ускорил реакцию и увеличил выход дивинила. Опыты следовали один за другим. Меняли разные параметры, брали различные вещества. И все-таки результаты были малоутешительными.
Но терпение ученых не иссякало, уверенность в успехе не покидала ни на минуту. Работать приходилось в очень трудных условиях. В те годы страна только залечивала раны, нанесенные гражданской войной, оправлялась от разрухи. О каком бы то ни было планомерном снабжении аппаратурой и реактивами ученые и не помышляли. Если требовался какой-нибудь прибор, установка, их делали сами.
Они знали: Родина ждет каучук и поэтому не щадили своих сил. И вот, катализатор был найден. Выход каучука увеличился до 25. В качестве «иголки» для «сшивания» крошечных молекул дивинила был использован натрий.
За день до окончания конкурса в Москву прибыла посылка с большим куском синтетического каучука, цветом липового меда, и описание промышленного метода его получения. Жюри признало способ Лебедева наиболее приемлемым. Было решено построить в Ленинграде предприятие, чтобы проверить его в заводских условиях.
Представляете, какой вой подняли наши враги: у большевиков есть каучук! А в Ленинграде уже действовал опытный завод синтетического каучука. И в проектных организациях сквозь паутину линий на чертежах проступали контуры новых мощных предприятий. Одно из них решено было возвести в Воронеже.
Летом 1931 года на песчаных холмах левобережья реки Воронежа, поросших чабрецом, запели пилы, застучали топоры. Все лучшее, что таилось в людях, воспрянуло в них: вся ненависть к рабству, моя вера в то, что партия ведет народ по верному пути. Всеобщий самоотверженный труд, на какой только был способен человек, закипел на окраине города, и не были для него препятствием ни морозы, ни снежные заносы, ни скудость пайка, ни дырявая одежда. Даешь завод!
На всю жизнь запомнили рабочие и инженеры знаменательный день — 19 октября 1932 года. В цехе полимеризации люди тесным кольцом окружили аппарат, где заканчивалось превращение крохотных молекул дивинила в большие молекулы синтетического каучука. Томительно медленно тянется время. Но вот крышка полимеризатора снята. На дне агрегата лежала прозрачная, словно льдина, глыба каучука. Бурная радость овладела людьми. Они обнимались, крепко жали друг другу руки.
Год спустя для сравнительного испытания шин из натурального и синтетического (в том числе и воронежского) каучуков был проведен автомобильный пробег Москва — Кара-Кумы — Москва. В нем участвовали разные типы машин — легковые, грузовые, почтовые. Пробег этот закончился настоящим триумфом натрийдивинилового каучука. Покрышки из него теряли в весе за каждые 100 километров пути на 20 граммов меньше, чем шины из сока тропической гевеи. Резинщики перестали смотреть на синтетический каучук как на суррогат. Это полноценный материал!
В Великую Отечественную войну гитлеровцы нанесли тяжелый урон заводу. Они разрушили дотла все производственные корпуса и жилой городок. Иным казалось, что эти раны не удастся залечить и за четверть века. Но после освобождения Воронежа от фашистов люди опять совершили подвиг. В непостижимо короткий срок они восстановили завод. Жилые дома вновь взметнули этажи в небо, откуда не должны больше падать бомбы и снаряды.
Непосвященному человеку, далекому от практической химии, может показаться, что сам по себе процесс создания больших молекул не так уж сложен. Эта простота обманчива. Чтобы получить посредством синтеза нужный материал, надо заставить исходные блоки или атомы соединяться между собой в определенных комбинациях. Этот процесс нуждается в более чутком обращении, чем спичка, горящая на ветру. Его приходится вести на тонкой грани: реакция готова потухнуть, прекратится, или, наоборот, идти на недозволенно высоких режимах.
Из огромных резервуаров спирт-сырец поступает в испарители. В газообразном состоянии он подается в контактные печи, загруженные катализатором. Здесь при высокой температуре происходит распад молекулы спирта и образование из ее обломков молекул дивинила (его часто называют бутадиеном). На этой стадии дивинил находится в состоянии газа. К нему примешаны пары воды и спирта, различные углеводороды, кислоты и другие побочные продукты. Большинство из них переходит в жидкое состояние при более высокой температуре, чем дивинил. Поэтому после некоторого охлаждения они сжижаются, а газообразный дивинил проходит еще несколько стадий очистки. Водой отмывается от него самая прилипчивая» примесь — ацетальдегид. Пройдя ректификационные колонны, почти свободный от побочных продуктов дивинил поступает в автоклавы, где созданы нужные для полимеризации температура и давление. Это самый ответственный и капризный процесс. В присутствии металлического натрия бутадиен начинает постепенно густеть. Из его нестойких молекул образуются длинные цепочки — молекулы каучука. Полученное вещество еще содержит некоторые ненужные примеси, остатки катализатора, поэтому его загружают в вакууммешалки — плотно закрытые аппараты — и отсасывают газообразные продукты. В оставшуюся массу добавляют химикаты, которые делают ее более долговечной, устойчивой к воздействию
кислорода. Затем каучук попадает на вальцы, где его промывают, очищают от остатков катализатора и формируют в пластины. Так получают бутадиеновый синтетический каучук.
Дальнейшие исследования показали, что, кроме дивинила, имеются и другие углеводороды, способные полимеризироваться в каучукоподобные вещества. К числу их относятся изопрен, стирол, нитрил акриловой кислоты. Наиболее дешевым из них является стирол. При добавлении его к дивинилу получается каучук, обладающий большой прочностью. К тому же совместный полимер дивинила и стирола может быть получен в виде латекса как натуральный каучук. Это достигается следующим образом. Дивинил и стирол смешиваются с водой, в которой растворено некоторое количество специального мыла — некаля. Этот химикат дает возможность сохранять оба продукта в виде эмульсии, то есть в равномерно смешанном состоянии. Не будь некаля, дивинил и стирол мгновенно всплыли бы наверх.
Полимеризация дивинила и стирола ведется под действием специальных возбудителей. В полученный латекс добавляются уксусная кислота и хлористый кальций. Под их влиянием образуются твердые частички каучука — глобулы. Они укрупняются и выпадают. Эта смесь подается на лентоотливочные агрегаты, где происходит формирование каучука в виде ленты. После сушки ее сматывают в рулоны, упаковывают в мешки и отправляют потребителю. Таким образом, на заводе получают дивинилстирольные (морозостойкий и маслонаполненный) каучуки. Они состоят из длинных нитевидных молекул, как и молекулы натурального каучука. Вместе с тем каждый из них имеет свои особенности. Это чрезвычайно важно. Ведь гевее было все равно, прочна ли резина изготовленная, не разлагаются ли шланги от бензина и масла. Но человеку не все равно. Он старается придать синтетическому каучуку нужные свойства, которых нет у натурального.
Природный каучук разлагается от масла и бензина, а бутадиеннитральный к ним безразличен. Поэтому идет на изготовление шлангов для нефтяников и химической промышленности. Синтетического каучука требуется все больше и больше. Даже если бы в России были сплошные «гевейские» леса все равно была бы потребность в синтетическом каучуке. Потому что его природный родственник ему не конкурент по разнообразным свойствам, приданным ему человеком.



 Открытие Бушарда существенно продвинуло науку вперед. Вскоре Тильден получил синтетический каучук из скипидара. Но практического значения в его находке не было. Скипидар — слишком дорог. Кусочек каучука, полученный из него, стоит почти как небольшой бриллиант.
Открытие Бушарда существенно продвинуло науку вперед. Вскоре Тильден получил синтетический каучук из скипидара. Но практического значения в его находке не было. Скипидар — слишком дорог. Кусочек каучука, полученный из него, стоит почти как небольшой бриллиант.